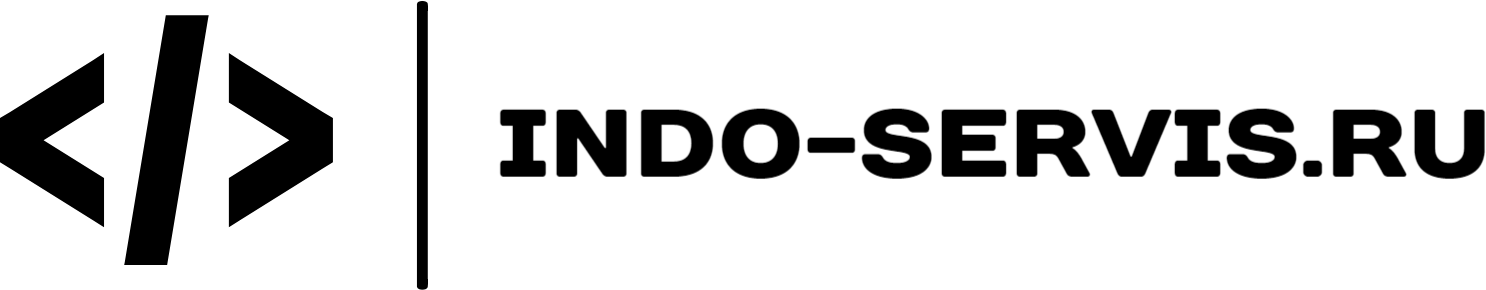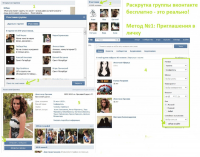Ключ, конусы, парашютист и высокий берег
Белые одежды
Роман
Сии, облеченные в белые одежды,
кто они и откуда пришли?
Откровение Иоанна Богослова
Вторая часть
I
— Весна! – сказал полковник, покачав головой.
— Да! – покачал головой и Федор Иванович. – Она свое, а человек, знай, гнет свое.
Полковник сразу услышал намек, взглянул, но не стал развивать невыгодную для него мысль. Только начал оправдываться:
— Федор Иванович! Вы же меня сами заразили этим. Философией. Помните, вы мне что-то говорили о ключе…
— О ключе? Вам? Никогда не говорил.
— А тогда? Помните, когда пришли…
— Тогда у меня еще и ключа не было. Это вам кто-то. Кто Моргана дал…
— Может быть, и так, — Свешников бросил на Федора Ивановича быстрый смущенный взгляд. – Но вы мне и так многое доверили. Так валяйте до конца, я не продам. Давайте про ключ.
Он так и ломился вперед со своими вопросами.
— О ключе это очень много, — сказал Федор Иванович. – Вы хотите часовую лекцию?
— Да, да! Именно!
— Ну, во-первых, поскольку существует авторское право, я должен заявить вам, что все, что будет… если будет… изложено ниже, принадлежит не мне, я уже говорил… А будет всего-навсего вольным пересказом чужих мыслей и не претендует на полноту. Фамилию автора я пока не назову.
— Меня фамилия автора не интересует, даже если бы это были вы, — сказал Свешников как-то небрежно, слегка презрительно и даже с торжеством, и Федор Иванович сразу понял, что его новая попытка уйти из упряжи пресечена.
— Ну ладно. С чего бы начать? Вот, представьте себе, человек тонет. Под лед провалился. А я ищу шест – помочь. А мой приятель молча мне говорит. Глазами. Говорит, не ищи особенно. Я все же увидел шест, хочу взять. А он поскорее – молча закричал: ты не видишь этого шеста! Может быть, это и не шест! Пойдем лучше, покричим на помощь, а он в это время утонет. Вы не чувствуете здесь, в этом примере, взятом из жизни, неполноты? Чего-то не хватает, Верно? Ответов нет. Почему кричит «не ищи»? Почему доверяется мне, крича это? Наверно, знает, что у нас с ним может быть единство на этой почве? Почему надо пойти, а не побежать за помощью? Почему покричать все-таки на помощь, когда все делается так, чтоб человек утонул? Наконец, кто этот тонущий, верно? Почему я его все же хочу спасти, а приятелю непременно нужна его смерть?
Федор Иванович посмотрел на Свешникова. Толстые светло-розовые губы полковника уже вытянулись в трубку.
— Михаил Порфирьевич, разве разберешься в таких отношениях с помощью кодекса?
— Разбираются… — заметил полковник.
— Ну да, это если налицо мертвое тело. А если дело происходит на защите диссертации? Или касается занятия должности? Или внесения вашей фамилии в список на получение? Тут кодекс и вся криминалистика теряют свою силу. Кодекс – это старинная пищаль… Аркебуза ржавая… На поле боя, где действуют танки. А?
— Вы оригинальный мыслитель.
Тропинка в жидком снегу вела их прямиком к парку.
— Мы общаемся с миром… А он весь прямо вибрирует от пересекающихся скрытых интересов. – Федор Иванович входил в любимую колею и чувствовал, что уже не сможет остановиться. – Активность каждого из нас начинается с намерений. А намерения ведь разные бывают… Одни направлены на вещи, а другие, смотришь, и на человека… Я в лесу увидел цветок и хочу понюхать. Или копаюсь в огороде и нашел камень, бросить его хочу за межу. Чтоб огурцам расти не мешал. Другой человек и его интересы не присутствуют…
Федор Иванович умолк. Полковник тоже молчал, внимательно слушал.
— А вот теперь совсем иной тип намерений. Я хочу человеку преподнести что-нибудь хорошее, чтобы он таким образом получил удовольствие. Хочу неожиданно подарить вещь, которую тот безуспешно искал. Огорошить счастьем. И человек вспыхивает от радости. И я с ним. Доброе у меня намерение, верно? Что придает ему эту черту? Заключенное в намерении добро.
— Я слышал уже об этом. В городе уже многие говорят. Видимо, настоящий автор тоже не сидит сложа руки, бесстрашно высказывается, — полковник с улыбкой косо глянул на Федора Ивановича, — Но, по-моему, это очень отвлеченно. А вот ключ…
— Мы уже говорим об этом ключе. Нужен ведь подход. Давайте рассмотрим еще такой случай. Я завидую чьим-то успехам, а может быть, просто хочу получить некое благо, а человек по неведению уселся у меня на пути. Добросовестно владеет, дурак, и доволен, не хочет со своим счастьем расстаться. Новый сорт картошки нужен мне, а его вывел другой. Тогда как я идеально подхожу в авторы, это мне яснее ясного. Знаменитый ученый, а своего сорта нет! Всю жизнь это меня грызет. Да еще правительству наобещал. И я хочу человека завалить, а готовый сорт прикарманить. Еще не прикарманил, бегаю вокруг. Но это хотение уже сложилось во сне и горит огнем…
— Горит! – согласился полковник. – Ох, горит!
— Горит! И знаю ведь, что, если отниму у него его счастье, он может даже не перенести удара. Но все равно горит. И ничем не унять. Или добро, или зло – что-то должно лежать в основе наших намерений. Если они касаются другого человека. Их даже физически чувствуют! Вам знакомы такие слова: «Задыхаясь от злобы», «предвкушая гибель своего врага»? Или наоборот – «светился доброжелательством», «предвидел крушение его надежд и страдал от этого». От этих ощущений можно даже заболеть! И то, и другое ощущается! Существует вне моего сознания, если я – посторонний наблюдатель происходящего. Хотя, правда, и мое сознание сразу кинется участвовать. Есть, впрочем, такие, у кого и не кинется… Это нужно сказать тем, Михаил Порфирьевич, кто вас за эти мысли обвинит в идеализме и потащит, как дядика Борика…
-Ну-ну. Оговорки при мне можно не делать. Давайте дальше.
— Добро и зло родят и действия, специфические для соответствующих случаев. Можно даже классифицировать и составить таблицу. Обратите особенное внимание… какая получается зеркальность! – Федор Иванович, сильно взволнованный, повернулся к собеседнику: — Смотрите! Это же чудеса! Открытие! Добро хочет ближнему приятных переживаний, а зло, наоборот, хочет ему страдания. Чувствуете? Добро хочет уберечь кого-то от страдания, а зло хочет оградить от удовольствия. Добро радуется чужому счастью, зло – чужому страданию. Добро страдает от чужого страдания, а зло страдает от чужого счастья. Добро стесняется своих побуждений, а зло своих. Поэтому добро маскирует себя под небольшое зло, а зло себя – под великое добро…
— Как? – закричал полковник, останавливаясь. – Как это добро маскируется?
— Неужели не замечали? Ежедневно это происходит, ежедневно! Добро великодушно и застенчиво и старается скрыть свои добрые мотивы, снижает их, маскирует под морально-отрицательные. Или под нейтральные. «Эта услуга не стоит благодарности, чепуха». «Эта вещь лишнее место занимала, я не знал, куда ее деть». – «Не заблуждайтесь, я не настолько сентиментален, я страшно жаден, скуп, а это получилось случайно, накатила блажь. Берите скорей, пока не раздумал». Один друг моего отца, побеседовав с ним по телефону, говорил: «Проваливайте ко всем чертям и раздайте всем детям по подзатыльнику». Добру тягостно слушать, когда его благодарят. А вот зло – этот товарищ охотно принимает благодарность за свои благодеяния, даже за несуществующие, и любит, чтобы воздавали громко и при свидетелях. Добро беспечно, действует, не рассуждая, а зло – великий профессор нравственности. И обязательно дает доброе обоснование своим пакостям. Михаил Порфирьевич, разве не удивляет вас стройность, упорядоченность этих проявлений? Как же люди слепы! Впрочем, иногда действительно бывает трудно разобраться, где светлое, а где темное. Светлое мужественно говорит: какое я светлое, на мне много темных пятен. А темное кричит: я все из серебра и солнечных лучей, враг тот, кто заподозрит во мне изъян. Злу иначе и вести себя нельзя. Как только скажет: вот, и у меня есть темные пятна, неподдельные, — критиканы и обрадуются, и заговорят. Не-ет, нельзя! Что добру выставлять свои достоинства и подавлять людей благородством, что злу говорить о своей гадости – ни то, ни другое немыслимо.
— Нет, никак, — Свешников закивал. – Никак немыслимо. – Он, похоже, понял что-то главное и был согласен. – Ни в коем случае нельзя, — тут он задумчиво выпятил губы. – Прямо как у одного теоретика получается, — сказал он вдруг невинным тоном. – Если переносим член уравнения на другую сторону, он меняет знак…
Федор Иванович на миг остро на него взглянул. Полковник собирал все его высказывания, оброненные в разное время и в разных местах.
— Вы правы, Михаил Порфирьевич, — сказал он, овладев собой. – Здесь скрывается целая наука. Белое пятно. Только изучай. Зло ведь не только норовит себя преподнести, как добро, но и доброго человека любит замарать под злого. «Очернитель», «Лжеученый!»
— Точ-чно!
И вдруг полковник, взыграв глазами, тронул Федора Ивановича за локоть:
— Вейсманист-морганист!
— Я вижу, вы уже пробуете применять этот ключ на практике, — с прохладной улыбкой сказал Федор Иванович. – Несомненные успехи!
Его не так-то легко было захватить врасплох. Произошла минутная заминка. Полковник думал о чем-то своем, Федор Иванович, не зная, откуда может грозить неведомая опасность, осторожно присматривался к нему.
— Для этой очень ценной науки, видимо, еще не настало время, — вдруг сказал Свешников. – Или, может быть, пропущено.
— Почему? – осторожно спросил Федор Иванович. – Зло перекочевывает из одной формы в другую. Было бы наивно… И смертельно опасно… думать, что с революцией, с Октябрем зло полностью из общества отфильтровано. Этот вирус пока через все фильтры… Во все века в шествии счастливых рабов, сбросивших оковы, шло и оно, Михаил Порфирьевич…
— Парашютист шествовал, — задумчиво обронил полковник.
— Вы о чем?
— Так… Это уже мое открытие. О парашютисте говорю. О спустившемся парашютисте. О нем пока не стоит… Мысли ваши мне понятны. Я их разделяю. Но это не значит, что некоторые…
— Это не для официального обнародования.
— И суд будет не на вашей стороне, если включить в практику. Судебному секретарю нечего будет записывать в протокол.
— Это не для секретаря и не для протокола. Это должно помогать человеку там, где суд бессилен. Это для беззвучного употребления.
— М-может быть… Согласен. У меня кое-какая практика есть, я тоже наблюдал, но не с того конца. Когда живешь в гуще событий, невольно суммируешь свои наблюдения. И когда-нибудь, когда мы лучше узнаем друг друга… Можно бы и сейчас, но, по-моему, мы еще не исчерпали…
«Хорошо стелешь, — подумал Федор Иванович. – Не зря полковником стал».
— У нас не решен еще один важный вопрос, — задумчиво проговорил Свешников, останавливаясь. Широко открыв белесые с желтинкой глаза, он прямо взглянул в лицо собеседника. «Он серьезно вникает в это дело!» — открыл вдруг Федор Иванович.
Один вопрос мне пока недостаточно ясен. Вы говорите, для внутреннего употребления. Вот я хочу употребить этот ключ. Этот критерий. Так это же и зло может сказать: я тоже думаю о критерии!
— Ничего вы еще не поняли! – загорячился Федор Иванович. – Сама ваша тревога о критерии уже есть критерий. Раз в вас сидит эта тревога – вам-то самому ясно, тревога это или маска! Тревога есть – имеете право занимать активную позицию.
— А если мне ясно, что тревоги нет, и что мои слова – маска?
— Раз маска – значит, есть за душой грех. Если есть грех, если вы хотите заполучить новый сорт, анализ намерений вас не будет интересовать. Зло своих намерений не изучает. Его интересует тактика. Как достичь цели.
— Пусть. Но я же закричу! И за голову схвачусь. Ах, я так тревожусь!
— А я вас тут и накрою. Ваш крик – маскировка злого намерения. Тактика. Тревога этого рода существует не для того, чтобы заявлять о ней другим. Я же сказал – для внутреннего употребления. Кто искренне тревожится – молчит. Страдает и ищет путь. Искреннее добро редко удается подглядеть в другом человеке.
…
— Федор Иванович… Да не спешите вы так! Куда понесся? А что же песочные часы? Два ваших конуса – вы так и не объясните мне, с чем их едят?
— Я же говорил, это не мои конусы, а одного моего знакомого. Мне никогда не допереть до таких вещей.
— Еще больше заинтриговал. Может, вкратце посвятите?
— Отчего же не посвятить. Это графическое изображение нашего сознания – как оно относится к окружающему миру. Изображение условное, конечно. Верхний конус, который уходит в бесконечность, все время расширяется, это Вселенная, мир, вмещающий все, за исключением моего индивидуального сознания. Или вашего…
— Как это за исключением? Разве я и вы не составные части мира?
— Конечно составные. Но как только я о нем начинаю думать, я противопоставляю себя ему. Отделяюсь мысленно.
— Ах, вот как…
— А нижний конус, который тоже в бесконечность уходит и у которого нет дна, это я. Вы стремитесь, я же это вижу, проникнуть через вход внутрь бесконечности моего сознания, посмотреть, что там делается. А дырочка узка, и вам никогда внутрь моего «я» не протиснуться. Вы это знаете, вам же приходилось допрашивать… Оставьте надежды навсегда. Можем и поменяться местами. У вас свой конус, ваше сознание. А я могу быть для вас внешним объектом. Я топчусь в верхнем конусе, у входа. И тоже хочу проникнуть в ваше сознание. Хочу кое-что понять. Что это он так мной интересуется? Чем я для него привлекателен, интересно бы посмотреть. Но и мне к вам тоже не пролезть. И я ничего не узнаю, если вы не пожелаете меня посвятить. А посвятите – тоже узнаю не все. С ограничением. Разве по ошибке выпустите наружу информацию. Но и тут… Еще никто не проникал в сознание индивидуального человека. Даже того, который твердит, что он большой коллективист. Наша внутренняя свобода более защищена, чем внешняя. Здесь никто в спину не ударит. Мысли не звучат для чужого уха. Пока технари не придумали свой энцефалограф, над которым упорно бьются. Пока не научились записывать наши мысли на свою ленту с дырочками, до тех пор может жить и действовать неизвестный добрый человек, скрывающийся в тени, готовый биться против ухищрений зла. Что такое добро, что такое зло, вы уже знаете.
…
— Как я понимаю, у зла есть тоже своя нижняя колба песочных часов. Свой внутренний конус…
— Только маленькая разница, Михаил Порфирьевич. Но существенная. Самонаблюдение злого человека не интересует. Его жизнь – во внешнем конусе, среди вещей. За ними он охотится. Ему нужно все время бегать во внешнем пространстве, хватать у людей из-под носа блага и показывать всем, что он добряк, благородный жертвователь. И вся эта маскировка может быть хорошо видна добру, которое наблюдает из своего недоступного укрытия. Если оно постигло… Если научилось видеть. Добро, постигшее эту разницу, будет находиться в выгодном положении. Это сверхмогучая сила. Особенно если она осенена достаточно мощным умом. Точка, на этом я заканчиваю. Вы получили от меня весь курс.
VII
— Что ж об Ассикритове не спрашиваете? Теперь можно, — Сказал полковник.
— А что, собственно, спрашивать? Все вроде ясно. Только почему вы его называете парашютистом?
— Правильно начинаешь разговор. – Свешников соскользнул на «ты» и сам этого не заметил. Видимо, он все еще сидел на своей коновязи, в своем двадцатом году. Это чувствовалось, он сегодня был несколько иным. – Правильно поставил вопрос. А вот отвечать придется с подходом. У Достоевского сказано, ты помнишь? В «Преступлении и наказании». Он говорит, что господа социалисты все хорошо с помощью логики рассчитали, но не учли одного – натуры человека. А с одной логикой, Достоевский говорит, нельзя через натуру перескочить. Логика предугадает три случая, а их миллион. Коммунисты тоже натуру не учли. И не поставили вовремя преграду. Для миллиона случаев. А надо было попытаться. И дальше так себя вели, не ставили преграду. Как будто натуры нет, а одно только социальное происхождение. Может быть, уже умышленно. Потому что, когда вопрос начал всерьез возникать, натура уже крепко сидела там, где ей хотелось сидеть. И ее тоже звали «товарищ». От нее-то, от натуры, все и пошло. Что цели сначала были святыми – по себе скажу. Некоторые моего генерала фанатиком называют. За черные глаза. А какой он фанатик? Фанатики не едят сало в одиночку, тайком от всех. Накрывшись одеялом с головой. Должностей не ищут. И смерти не боятся. Фанатик – я, Федор Иванович. Тебе одному откроюсь. Чувствую, тебе могу открыться. И вообще, тебе первому признаюсь. Потому что получится пустое, болтовня, если направо-налево начать говорить. А там и не заметишь, как вместо дела пойдут одни, Федор Иванович, слова. Натура начнет свое делать. Ее никто не видит, она во внутреннем нашем конусе. За ней каждый должен сам смотреть. А это занятие – на любителя. На ре-едкого любителя… Все мы тогда, когда на коновязи сидели, думали – в классах дело. А классовая борьба тоже требует понимания особенностей натуры. А мы тогда только напрямик. Мой-то генерал был ведь беднота из бедноты. Помнишь фото, худой какой? Видел я и его мать. Баба такая в платке. Темнота! Кто же мог подумать, что нашего Кольку Ассикритова – на парашюте к нам из того мира? Из мира наживы и эгоизма?
— Я понимаю вас, но не совсем… Как это – на парашюте?
— Абстрактно мыслить не умеешь. А еще песочные часы придумал. Вот слушай. Вообрази себе самого практичного трезвого эгоиста-буржуя. Представь теперь, что его сбросили к нам на парашюте. Экспериментально. Где-нибудь в самом центре советской действительности. Сбросили – и хода ему назад, в Нью-Йорк, уже нет. Теперь рассуждать давай. Что он станет делать, осмотревшись? Возьмет вилы и попрет в одиночку войной на всю советскую власть? Не-ет, Федор Иванович! Фигу! Ведь он трезвый и практичный. Стало быть, неглупый. Что он будет делать в самом центре советской действительности? Жить-то хочет. И не как бог даст хочет жить, а хорошо. Федор Иванович, он прежде всего осмотрится. Внимательно изучит все и скажет: ого, и тут можно жить! Он будет делать то, — Свешников вытаращился на миг. – Он будет делать то, что скорее всего приведет его к власти и благам. Будет кричать наши специфические слова. Есть такие слова, которые у советского человека все силы отнимают. Вот он их и начнет кричать. И получит то, что ему нужно. Мы кричим: «Да здравствует мировая революция!» — а он еще громче нас. А внутрь не заберешься – кто как кричит. Песочные часы так устроены, ты прав, Федор Иванович. Из одной колбы в другую – как проникнешь? А следующим заходом он станет давить тех, у кого зрение сохранилось, кто поднимет на него зрячие глаза. Конечно, это будут самые лучшие наши ребята.
Они замолчали и долго шли с темными лицами, словно поссорившись.
— Во-от ведь какая штука, Федор Иванович, дорогой. Да вы и сами знаете. Громче всех кричи и куй свою судьбу. Трибуна, трибуна! Парашютиста искать надо среди тех, кто громче всех кричит. Но никак не среди тех, кого гонят. Кого гонят, тот мог бы и не соваться. Жил бы себе и подпевал. Если он суется – значит, дело ему дороже жи-и-изни, Федя. Значит, он наш человек. А парашютист его к ногтю, представляешь? Как врага…
Тут оба собеседника надолго замолчали. Потому что Федор Иванович по-особенному нахмурился – вспомнил свой давний разговор со Стригалевым. Там шла речь о сапогах, косоворотке и кукушонке, который выбрасывал других птенцов из гнезда. Вспомнил и громко вздохнул.
ЭПИЛОГ
— Кто из вас, друзья, мне объяснит, — начал дядик Борик рыбацкую беседу. – Почему тот берег такой высокий, а этот, где мы сидим, такой низкий и ровный. Что за явление?
— Проще простого, здесь же пойма, — сказал Павлик.
— Пойми, Паша, это не причина, а следствие. Ладно, вы не занимались этим вопросом. Тот берег высокий – потому что он правый. Земля вращается с запада на восток, понял? Берег постоянно надвигается на реку, вода по инерции ударяет в него и подмывает. Бэра закон слышал? Закон Бэра. А с нашего берега река постоянно отступает, берег из-под нее уходит на восток. Оседает ил, песок. Поэтому здесь остается низина. Образуется пойма. Такое же явление, как в маятнике Фуко.
…
— Они все были там, на высоком берегу. Выгодная позиция. Всегда стараются захватить высоту. Спокойно, с высоты постреливали в наших. А наши ребятки, Дудик, лежали на равнине. Как на ладони лежали. Хоть и зарылись в землю. Выбирай и бей. Спрашивается, почему же не наши отступили, а немцы? Почему вот этот солдатик, спрашивается… Почему не убежал? – дядик Борик с уважением и страхом посмотрел на челюсть, которую все еще держал перед собой. Ведь видел – гибнут кругом ребята. И лес же рядом! Почему не спасти жизнь? Вот у нас в цехе из-за премиальных, из-за десятки черт знает на что способны… А тут жизнь… Ну, конечно, дезертира могут поймать, есть трибунал, расстреляют… Но все равно – три, пять дней поживешь. Пять дней! А могут и не расстрелять. Даже не поймать могут. А тут через час… А может, даже через минуту… Ведь он не убежал! Вот он, Дудик… Остался здесь. И другие… А те – прекрасно вооруженные, занимавшие господствующую над плацдармом высоту… вдруг сами снялись… И не побежали, нет, а организованно, осторожненько исчезли. Утром глядь, а тот берег уже оставлен врагом. Смылись, понимаешь…
Дядик Борик уже загорелся своей идеей.
— Умные люди могут сказать: враг отступил, потому что сложилась невыгодная для него ситуация. Хорошо, хорошо, понимаю. Да, да, так оно и было. А из чего эта ситуация складывалась? Ведь до Берлина много рек приходилось переходить, и у многих речек если и был высокий берег – то с той стороны, с западной. А с нашей низина. Закон Бэра помогал не нам. А все равно ситуация для них складывалась так, что надо уходить. Погоди, я знаю, что скажешь. Полководцы. Да, да, да. Полководцы сделали свое дело. А кроме? Почему этот солдатик не убежал, а послушался полководца и лег здесь, свою молодую жизнь положил?..
И мы умолкли, глядя на красно-коричневую стену высокого берега, которую все ярче разжигало утреннее солнце.
— Я тебе скажу, Дудик, — Борис Николаевич взял меня под руку. – Это явление не простое. Хотя и не везде так ярко увидишь… Это не просто частность войны. Наоборот, это закономерность… Которая лишь в частности… частным образом проявилась и на войне. А может проявляться и в других обстоятельствах… человеческой жизни. В критических ситуациях. Вот такое я разглядел… — тут взгляд Бориса Николаевича как бы остановился – дядик Борик переходил к своим выношенным выводам, к железному завершению своей мысли. – Инквизиция всегда била своих врагов и весь простой народ с высокого берега. С высочайшего берега она их клевала, как хотела. Христос, дева Мария, христианство – это ли не позиция! Это ли не высокий берег! Чтобы старуха добровольно несла охапку хвороста к костру, на котором сжигают Яна Гуса, ее ого-го как надо распропагандировать. А что получилось в итоге? Что получилось? Никто же инквизиторов не бил, не преследовал. Ручку им целовали! А все-таки сами, сами вдруг слезли со своего высокого берега и ушли. Вроде как и не было…
— Дядик Бо-орик! – донесся от реки голос Павлика.
— Они чувствовали, с каждым днем сильнее, что они неправы и что они преступники, которым припомнится все. Уже стали недосчитываться своих. Дезертиры у них появились. А лежавшие в низине все яснее видели свою правоту. И знали, что те, на высоком берегу, уже подумывают об организованном отходе. О том, как сохранить лицо… Прояснение наступало всеобщее. Ясность! Она сидела и в этой голове, — Борис Николаевич посмотрел на серую челюсть, которая лежала на его ладони. – В этом черепе светился вечный огонь правоты! И потому паренек не поднялся и не бросился бежать.
— Дядик Бо-о-о! – послышалось от реки.
— Ну что тебе? – крикнул Борис Николаевич, подняв голову, как орел.
— Хреновский рыбачишка! Ты посмотри, что я поймал!
— А, иди ты… — Борис Николаевич отмахнулся. – Один человек, который заразил меня мыслями… Он открыл, что есть критерии, по которым всегда можно узнать зло. Про высокий берег он еще не додумался. Он бы уцепился за этот критерий. А инструмент то-очный. Это так и есть, Дудик, подумайте об этом. Тому, кто прав, нет нужды бить себя кулаком в грудь. У него есть простые доказательства. Могу еще один пример… Ох, Дудик, у нас в институте четыре года назад что творилось, какие страсти. Одного ученого убивали сообща. Хорошего человека, мудреца. Образец был доброты, труженик… Вот его И конечно, с высокого берега били, потому что были неправы. Каждый в своей речи так подводил, что это не наш, что он враг… Отравитель умов… Только и слышно было: марксизм, передовая советская наука, единственно правильная мичуринская биология, интересы народа… Такие были высоты. Пристроили одного, куда надо, мешал он им. Потом за молодых принялись, кружок накрыли. Хорошие были ребята, прятались от этих, изучали клеточные структуры, настоящую науку. Никого не били, высокий берег не искали. Их тоже, с тех же позиций. Ясен тебе критерий? И еще одного гнать кинулись. Этого сначала не разглядели, думали, свой. А он не свой и не чужой, он ученый. И увидели наконец… Какой поднялся шум! Не знаю, где он сейчас, жив ли.
Владимир Дмитриевич Дудинцев
P.S.
— За что Вы так не любите свою Родину? – спросил секундант одной из сторон.
Надо же так, на какой недосягаемо высокий берег водрузил сам себя этот секундант, как ему там удобно, тут и логики никакой не надо, другая сторона, по его мнению, заведомо не права, подла и т.д. и т.п., просто на том основании, что она якобы не любит свою Родину. Уроки истории как бы не в счет. Собственно, я только хотел напомнить.